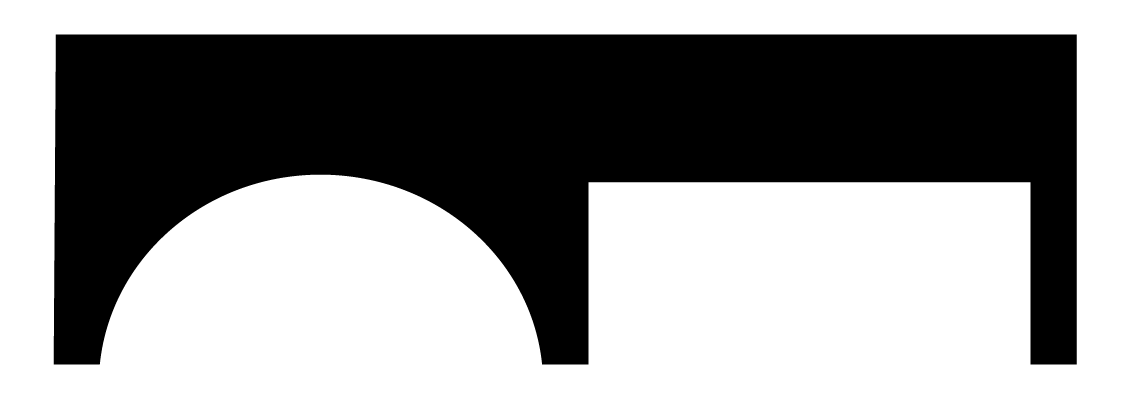Летящая стрела стоит на месте
Вероника Георгиева, художник выставки «Пропейзаж» — об «ошибке» современного искусства и пользе помоек, о коллаборации с Comme des Garçons и как найти прах в нью-йоркской библиотеке. Интервью взяла Маша Сумнина, художник группы МишМаш.
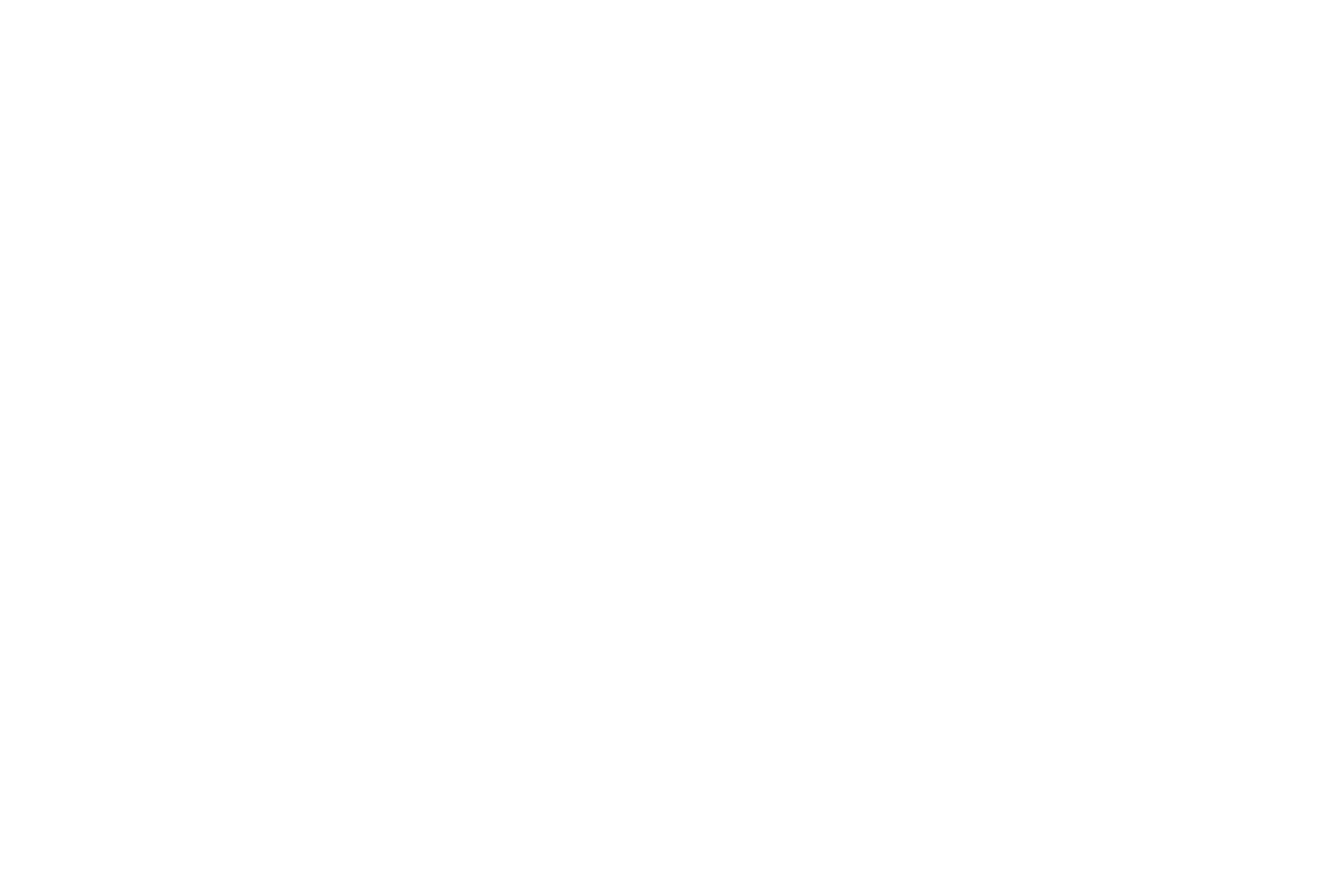
Вероника Георгиева
Маша Сумнина: Какой ты сейчас видишь пейзаж перед собой?
Вероника Георгиева: Если не смотреть за окно, то вид перекрывает денежное дерево… (смеется) А за окном — деревья уже не денежные — липы, и особняк Зинаиды Морозовой, который построил архитектор Шехтель.
МС: Ты и сама училась строить дома, но почти этим не занималась. Архитектор это тот, кто меняет пейзаж, причем на много поколений. Как ты не стала таким человеком?
ВГ: Да, я окончила Московский Архитектурный Институт, МАрхИ, но строить отдельные дома меня все равно не учили. Я окончила факультет градостроительства.
МС: То есть, еще более глобальное действие. Ты должна была менять среду обитания тысяч людей, а не парочки.
ВГ: Наверное, поэтому я и не стала архитектором. Если я и хочу что-то менять, то скорее не среду обитания, а среду восприятия. Хотя бы и для парочки. (смеется)
МС: Как ты отказалась от архитектуры и стала художником? В какой момент, и что тебя на это сподвигло?
ВГ: Скорее кто, а не что — люди, с которыми я общалась. Я училась в архитектурной школе за кинотеатром «Форум» на станции метро Сухаревская, но даже в середине десятого класса до конца не была уверена, становиться ли мне архитектором. Хотелось чего-то связанного с кинематографом, ну не актрисой, но, может, режиссером. И муж моей сестры, а и моя сестра и ее муж закончили как раз МАрхИ, короче, Гера сказал, «даже не раздумывай — иди в МАрхИ! В СССР только три института учат абстрактному искусству, и в Москве это МАрхИ. Ни Строгановка ни другие художественные вузы не научат тебя композиции. А композиция, — сказал Гера. — это всё. Если ты научишься совмещать всего три предмета — пирамиду, шар и куб, то, в принципе, ты научишься делать всё — как написать стихотворение, сделать фильм или разговаривать с людьми, потому что это и есть чувство композиции.» Это как я пошла в МАрхИ, но вышла я оттуда не совсем архитектором. На последнем курсе я познакомилась с художниками — стала ходить на четверги «Трёхпрудного», подружилась с Володей Дубоссарским, Антоном Смирнским, с ребятами из группы ФЕНСО. А потом приняла участие в первом проекте паблик арта, который устроили в 1993 году голландцы, ассистировала американскому художнику Стивену Шанабруку. В результате вышла за него замуж. И вот все мои новые тогда друзья-художники и новый муж вывернули мой мир, мой пейзаж на сторону современного искусства.
МС: Вот я думаю про пейзаж. Он же выделился в отдельный жанр довольно поздно. Сначала он играл вспомогательную роль и был на подпевках у сюжетов, у портретов на заднем плане. Постепенно он людей устранил, измельчил, и вышел наружу как географический, геополитический документ, стал документом времени, местности. Появилась позиция наблюдателя реальности, а не выдумки, не сочинения. Ты всегда работала с найденными материалами, с документами, или у тебя был период, когда ты делала отсебятину?
ВГ: Я — фанат переработки, это моя единственная, ну на данный момент, религия. Еще в МАрхИ я делала ювелирку из найденных материалов. Я обожаю одеваться в комиссионных магазинах. Так и произведения искусства как-то гармонично, без того, чтобы я особо об этом задумывалась, основываются на материалах, которые уже кем-то произведены. Мне и лень что-то производить с нуля и я считаю, что это и не совсем уже этично в мире, который вот только что не взрывается от переизбытка всякого стафа. То есть производи, если не можешь без этого, но если можно без этого, то воздержись. А еще я обожаю «охотиться» — находить.
МС: Да, ты все время находишь какие-то удивительные сокровища. Это же прямо дар грибника или охотника! Как ты развила такой глаз?
ВГ: Глаз это только прибор. Для того, чтобы найти что-то на помойке, в нее надо заглянуть. И заглянуть не только глазами, а еще и руками. А это мало кому хочется. Мне хочется. Охотник от слова «охота» — должна быть охота найти, охота замараться и, конечно же, охота замечать. «Замечать» меня и научило современное искусство. И его главный для меня в начале моего творческого пути представитель — художник Стивен Шанабрук, человек исключительно наблюдательный. Я помню, когда мы с ним только познакомились, на проекте Exchange в середине 90-х, и шли около метро Сокольники, он вдруг говорит: «Ты только что по огромной луже крови прошла. Видела?» А я даже не обратила внимания. И вот с тех пор я стала присматриваться.
МС: Получается, только на неживые объекты у тебя глаз заточен?
ВГ: Насчет неживых — есть одна история у меня, про самую неживую находку в мире. Как-то около городской библиотеки в Нью-Йорке мы нашли кучу книг и была там завернутая в коричневую бумагу посылка, перевязанная бечевкой. Дома я стала все это открывать, а в свертке, в котором я уже представляла кипу книг, была железная коробка. Которая вдруг у меня в руках подозрительно зашуршала. Я прочла приклеенную на коробке бумажку — «Cremated by Rudolf Speer». Шорох оказался шорохом чьего-то кремированного тела. Да еще кремированным кем-то с фамилией личного архитектора Гитлера. В дополнение ко всему на самой посылочной бумаге я рассмотрела штамп «Returned to the sender due to damage». То есть тому, кто послал этот прах, тот был возвращен из-за повреждения. Ну очень повредился кто-то во время пересылки…
МС: А там не было написано «Возвращено, потому что адресат выбыл»? Потому что это и есть сам адресат.
ВГ: Да, изменил место жительства. Или скорее, не-жительства. Отличный был бы круг!
МС: Меня всегда волновала дилемма: художник-диктатор и художник как тот, кто взаимодействует с реальностью, пейзажем в глобальном понимании, насколько он готов взаимодействовать и, вступая в диалог с внешним миром, принимать неожиданности, использовать силу ошибки.
ВГ: Именно что — использовать ошибку — в этом и есть сила. А потом кто знает, что — ошибка, а что — нет. А если ты боишься ошибиться, ну то есть пойти не по намеченному плану, ты вообще хреновый художник, можно сказать, ты вообще не художник. Я имею в виду современного художника, конечно.
МС: Ха!
ВГ: Современное искусство это в основном и есть, на мой взгляд, искусство ошибки. По правилам все уже всё давно сделали, а сейчас такие интересные совмещения несовместимого происходят. Мне кажется, и мои работы построены на тех или иных «ошибках». К примеру, проект «Летящая стрела стоит на месте», выставленном сейчас в ГРАУНД Солянке. Проект состоит из двухканальной видеоинсталляции и четырех принтов. Изображение происходит следующим образом — я физически накладываю слайды, слайд за слайдом, друг на друга и сканирую. Это сэндвич из шести-семи слайдов, восемь слоев это, наверное, максимум, потому что становится уже всё совсем черным. А почему ошибка? Я сложила слайды не как полагается — в проектор или карусель, а сложила «ошибочно» — вертикально. И получился не классический, то есть горизонтально структурированный видеоряд, а видеоряд вертикальный, где каждый последующий кадр — наслоение на кадр предыдущий, стопка изображений, метапейзаж. И пейзаж не только физический, но и ландшафт коллективной памяти — в работе использованы слайды из разных времен/стран/источников, сделанные разными анонимными авторами в 1940-90-х годах.
ВГ: Я — фанат переработки, это моя единственная, ну на данный момент, религия. Еще в МАрхИ я делала ювелирку из найденных материалов. Я обожаю одеваться в комиссионных магазинах. Так и произведения искусства как-то гармонично, без того, чтобы я особо об этом задумывалась, основываются на материалах, которые уже кем-то произведены. Мне и лень что-то производить с нуля и я считаю, что это и не совсем уже этично в мире, который вот только что не взрывается от переизбытка всякого стафа. То есть производи, если не можешь без этого, но если можно без этого, то воздержись. А еще я обожаю «охотиться» — находить.
МС: Да, ты все время находишь какие-то удивительные сокровища. Это же прямо дар грибника или охотника! Как ты развила такой глаз?
ВГ: Глаз это только прибор. Для того, чтобы найти что-то на помойке, в нее надо заглянуть. И заглянуть не только глазами, а еще и руками. А это мало кому хочется. Мне хочется. Охотник от слова «охота» — должна быть охота найти, охота замараться и, конечно же, охота замечать. «Замечать» меня и научило современное искусство. И его главный для меня в начале моего творческого пути представитель — художник Стивен Шанабрук, человек исключительно наблюдательный. Я помню, когда мы с ним только познакомились, на проекте Exchange в середине 90-х, и шли около метро Сокольники, он вдруг говорит: «Ты только что по огромной луже крови прошла. Видела?» А я даже не обратила внимания. И вот с тех пор я стала присматриваться.
МС: Получается, только на неживые объекты у тебя глаз заточен?
ВГ: Насчет неживых — есть одна история у меня, про самую неживую находку в мире. Как-то около городской библиотеки в Нью-Йорке мы нашли кучу книг и была там завернутая в коричневую бумагу посылка, перевязанная бечевкой. Дома я стала все это открывать, а в свертке, в котором я уже представляла кипу книг, была железная коробка. Которая вдруг у меня в руках подозрительно зашуршала. Я прочла приклеенную на коробке бумажку — «Cremated by Rudolf Speer». Шорох оказался шорохом чьего-то кремированного тела. Да еще кремированным кем-то с фамилией личного архитектора Гитлера. В дополнение ко всему на самой посылочной бумаге я рассмотрела штамп «Returned to the sender due to damage». То есть тому, кто послал этот прах, тот был возвращен из-за повреждения. Ну очень повредился кто-то во время пересылки…
МС: А там не было написано «Возвращено, потому что адресат выбыл»? Потому что это и есть сам адресат.
ВГ: Да, изменил место жительства. Или скорее, не-жительства. Отличный был бы круг!
МС: Меня всегда волновала дилемма: художник-диктатор и художник как тот, кто взаимодействует с реальностью, пейзажем в глобальном понимании, насколько он готов взаимодействовать и, вступая в диалог с внешним миром, принимать неожиданности, использовать силу ошибки.
ВГ: Именно что — использовать ошибку — в этом и есть сила. А потом кто знает, что — ошибка, а что — нет. А если ты боишься ошибиться, ну то есть пойти не по намеченному плану, ты вообще хреновый художник, можно сказать, ты вообще не художник. Я имею в виду современного художника, конечно.
МС: Ха!
ВГ: Современное искусство это в основном и есть, на мой взгляд, искусство ошибки. По правилам все уже всё давно сделали, а сейчас такие интересные совмещения несовместимого происходят. Мне кажется, и мои работы построены на тех или иных «ошибках». К примеру, проект «Летящая стрела стоит на месте», выставленном сейчас в ГРАУНД Солянке. Проект состоит из двухканальной видеоинсталляции и четырех принтов. Изображение происходит следующим образом — я физически накладываю слайды, слайд за слайдом, друг на друга и сканирую. Это сэндвич из шести-семи слайдов, восемь слоев это, наверное, максимум, потому что становится уже всё совсем черным. А почему ошибка? Я сложила слайды не как полагается — в проектор или карусель, а сложила «ошибочно» — вертикально. И получился не классический, то есть горизонтально структурированный видеоряд, а видеоряд вертикальный, где каждый последующий кадр — наслоение на кадр предыдущий, стопка изображений, метапейзаж. И пейзаж не только физический, но и ландшафт коллективной памяти — в работе использованы слайды из разных времен/стран/источников, сделанные разными анонимными авторами в 1940-90-х годах.
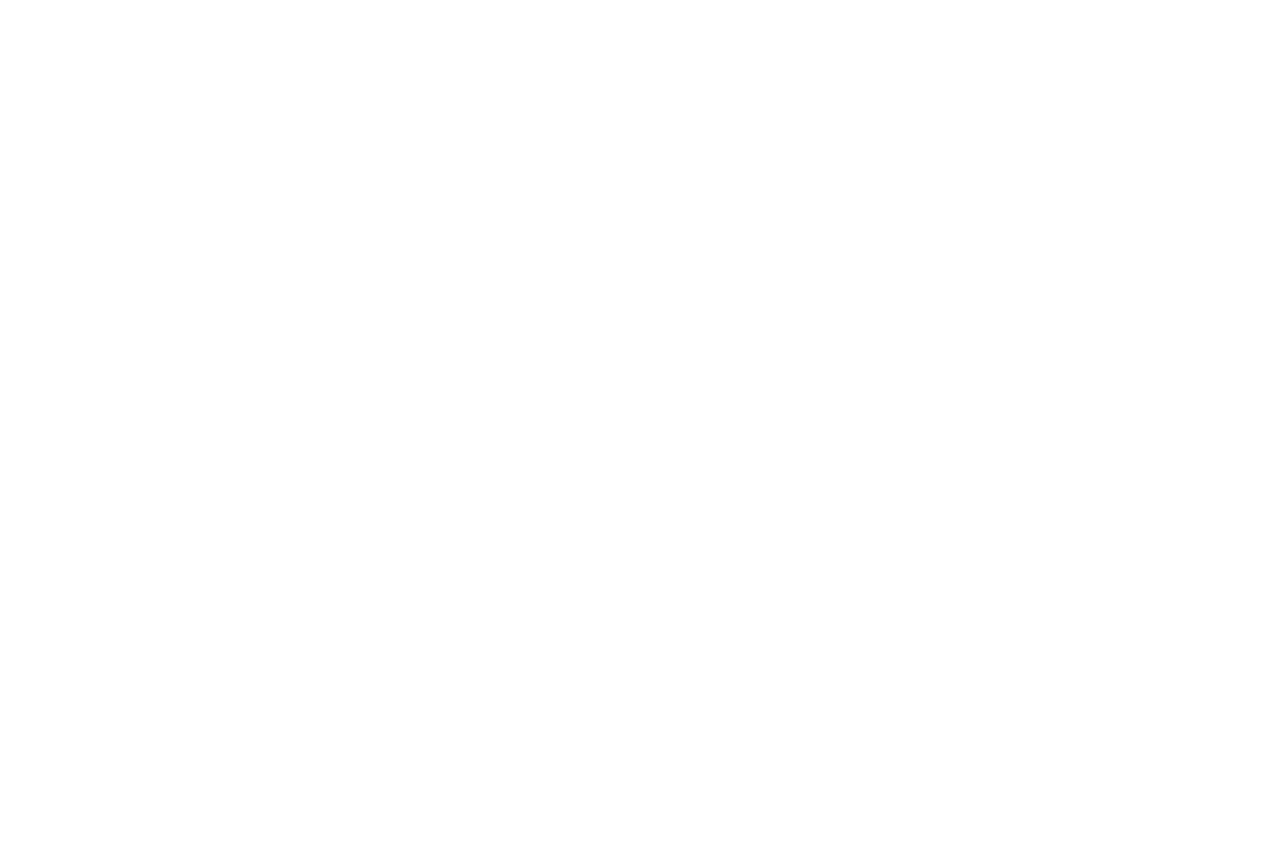
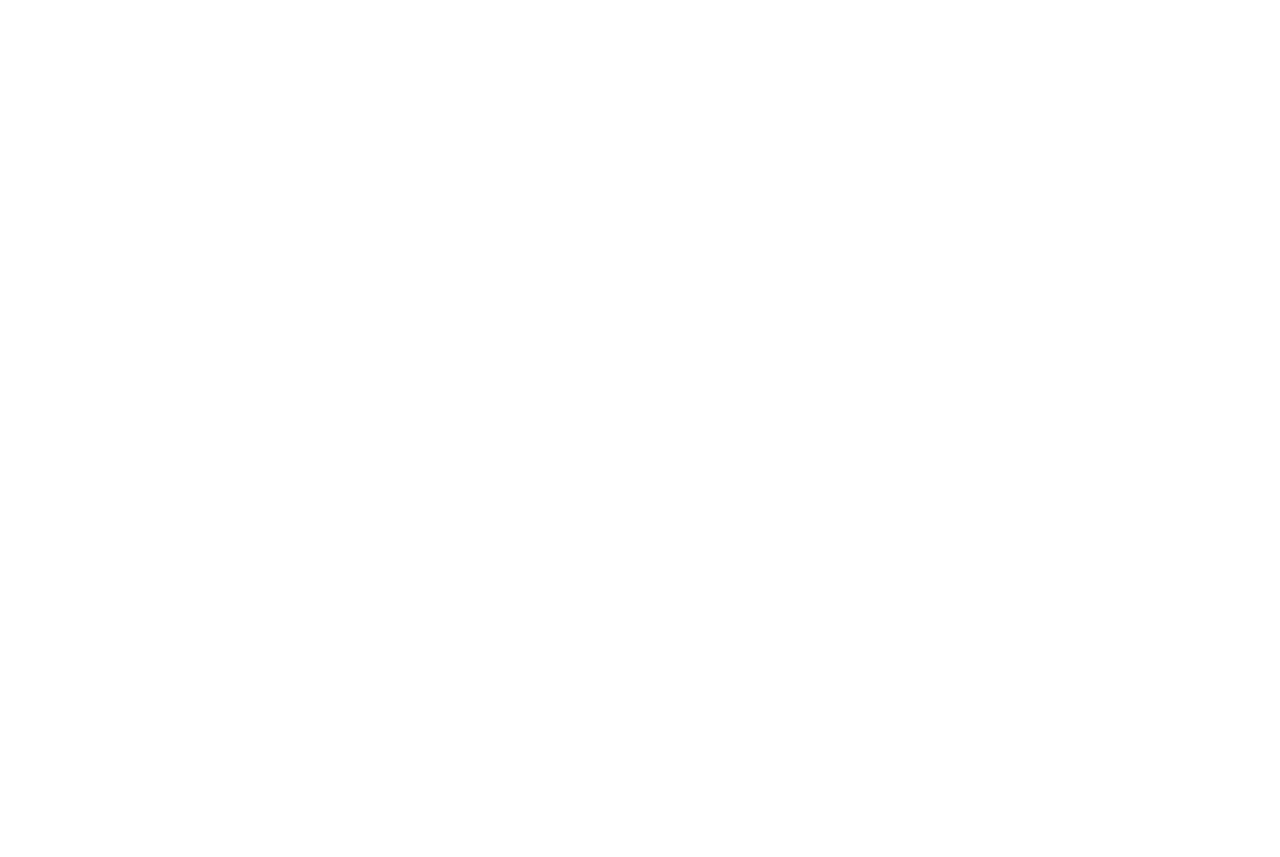
Кадры из видеоинсталляций, основанных на наложении сканированных слайдов
МС: Откуда у тебя эти слайды?
ВГ: Началось всё с того, что я зашла в какую-то комиссионку в Вашингтоне, и мне понравилась одна коробочка. Я просто хотела купить коробочку, но когда я ее открыла, там оказалось штук тридцать чьих-то семейных слайдов середины 1950-х, как я потом поняла. Американцы в Италии, их путешествие по Италии. Я все это купила, а через пару месяцев, уже в штате Огайо, попала на распродажу всего дома, где на каждом предмете были наклеены стикеры с ценой. Я спустилась в подвал, увидела там карусель для слайдов за 15 долларов, захотела ее купить. Кому заплатить? В углу подвала сидела женщина лет 50-ти, которая энергично вынимала из шкафа ящики и бросала из них слайды в огромный черный мусорный пакет. У меня комок стал в горле. Удостоверившись, что она действительно все это богатство выбрасывает, со словами «это снимал мой отец, это было его хобби», она мне за самовывоз все слайды отдала. Уже по приезду в Нью-Йорк я приблизительно подсчитала — их оказалось около пяти тысяч, снятые в период с 40-х до 70-х годов. Где-то около двух недель все мои вечера были посвящены жизни этой семьи и в основном, жизни этой женщины, которую она выкинула на помойку. Потому что на этих слайдах, а папа оказался шикарным фотографом, хотя это и было его хобби, — была конкретно вся ее жизнь, я реально просмотрела всю ее жизнь — от ее рождения, от того, как она маленькой девочкой училась кататься на лошади, ее выпускной вечер, как она разрезает торт на своей свадьбе и отдыхает с мужем на Гавайях или в отеле, очень напоминающим отель из фильма «Сияние». Вообще все это было максимально кинематографично. А еще там был для меня «момент истины». Помимо карусели Кодак я купила там яркий полосатый шарф и, просматривая на купленной карусели слайды, я вдруг вижу эту девочку-блондинку, стоящую против света. Она оборачивается из проема двери, как бы говоря, «я приду поздно», а папа ее в этот момент снимает. Прямо вермееровская картина с мощным потоком света, в контражуре. И она — в этом МОЕМ полосатом шарфе! И конечно, тут слились моя любовь к комиссионкам и периодически охватывающее меня желание понять, откуда пришла эта вещь — вот был бы такой чип, который записывал бы всю эту информацию. А тут — вот этот шарф, вот эта ситуация. Так началась моя огромная коллекция слайдов — от 40-х до 90-х, ebay, секонд-хэнды, помойки, развалы, Америка, СССР, Азия, архив американской газеты из города Барта Симпсона — Спрингфилда, личные и покупные слайды, выцветшие советские музейные, от которых остался лишь розовый цвет, и американский, неподвластный времени цвет кодаковской пленки, ГДРовская покупная пляжная эротика 70-х и личный архив американского фотографа журнальной обнаженки, Нью-Йорк 60-х глазами советского дипломата — слайды продала мне его жена на Измайловском рынке. В результате в моей коллекции около 65 тысяч слайдов всех времен и народов.

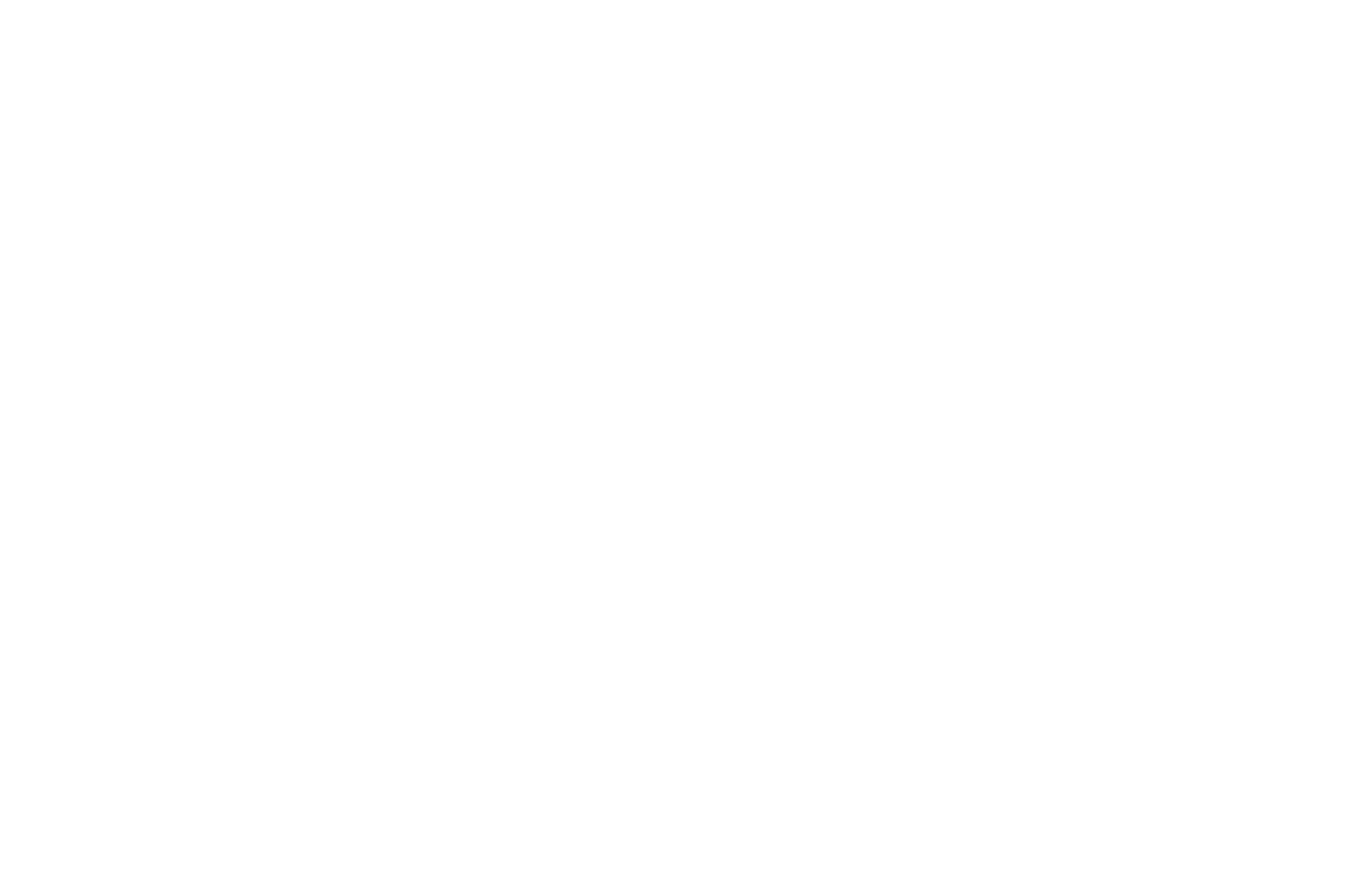
Фотографические принты
МС: Ничего себе! В связи с этим вопрос. Меня очень заботит в нашем переполненном мире эта экономия материала, когда, с одной стороны, ты используешь найденные предметы, то есть как бы не преумножаешь сущности в и без того переполненном мире, с другой стороны, ты обрастаешь вещами. Архив в 65 тысяч это же уму непостижимо! Тебя не начинает тяготить эта огромная масса материала, с которым ты обращаешься? Насколько он тебя может или не может поглотить? Насколько легко ты можешь расставаться со своими или найденными вещами? И ведешь ли ты свой собственный архив. Насколько тебе нужно фиксировать свою жизнь, а не чужую, например?
ВГ: С вещами я расстаюсь совсем не легко. Но меня не тяготит мой архив. Может, потому что для меня это никакой не архив. К примеру, я не раскладываю материалы на время и место съемок — меня не особо волнует время и место, но меня волнует композиция, живописность, цвет — чисто художественные качества изображения. А еще, конечно, что меня волнует, так это ситуация — если я вдруг вижу в одном кадре целую историю. Например, вот фотография — отец и два сына рядом, по стилю одежды американцы, где-то похоже в Мексике, 90-е, и с первого взгляда, отец вроде как нежно наклоняется к одному сыну и его приобнимает, но при более близком рассмотрении я замечаю, что ладонь его прямо в охапку, агрессивно сжимает рубашку на груди сына-тинейджера, и парень как-то весь съежился, руки в карманах и похоже, что кулаками прям сжаты внутри карманов, и у отца скулы аж на снимке будто ходуном ходят, а другой сын от них отвернулся — вообщем то, что изначально казалось снимком на добрую память о путешествии выглядит резким, стыдным, драматичным моментом. Ожившим что ли. Punctum по Барту — тем, что торкает. Вот, наверное, в чем дело. В Camera lucida Ролан Барт обозначил два понятия — studium, куда входит культурное значение фотографии, и punctum, вызывающий «укол», это эмоциональная составляющая фотографии. Studium это наверное и есть то, что относится к понятию «архива». Архив — это ответственность перед историей, перед теми, кто жил до меня и снимал эти мои слайды и перед теми, кто будет жить и смотреть их после меня. А мне все это по фигу, на меня не давит ответственность, я ее элиминировала, оставив себе только то развлечение, которое мне нравится — воспринимать кадры по «пунктуму» — тому, что меня торкает, задевает, по кинематографичности, если можно так выразиться. Я, к примеру, маркирую вещи не по месту и времени, а раскладываю отдельно фотографии снега или снимки в расфокусе или снимки людей сзади. Это моя следующая будет серия, я думаю — про людей снятых сзади. Это почти всегда случайные кадры и прям отдельная сказка.
МС: Сейчас ты участвуешь в коллективной выставке. Там получаются какие-то новые связи, новые сюжеты, возникающие просто от соприкосновения с другими? Как это для тебя работает, и есть ли на этой выставке что-то, что образовалось за счет соединения рядом разных работ и художников?
ВГ: Куратор выставки Катя Бочавар умеет создавать именно такой вот оркестр — из людей. А на выставке «Пропейзаж» получился оркестр в прямом смысле этого слова. Катя организовала пары — у каждого художника есть композитор, который к их произведению специально создавал музыку. И для меня это был уникальный личный опыт. Для своих видео я в основном беру музыку откуда-то. Мусоргский там, то-сё, других композиторов, которых можно взять и не думать об авторском праве. А здесь такой подарок — невероятный композитор Алина Мухаметрахимова написала музыку специально к моей видеоинсталляции. И что уже совсем удивительно, также к моим принтам. Рядом с принтами есть наушники, и благодаря написанным к принтам саундтрекам стационарные изображения «оживают». Я назвала это для себя «клип одного кадра». Музыка как бы растягивает изображение во времени, дарит ему длительность просмотра. Заставляет зрителя начать всматриваться в статичный образ, и, надеюсь, путешествовать в нем, как в фильме.
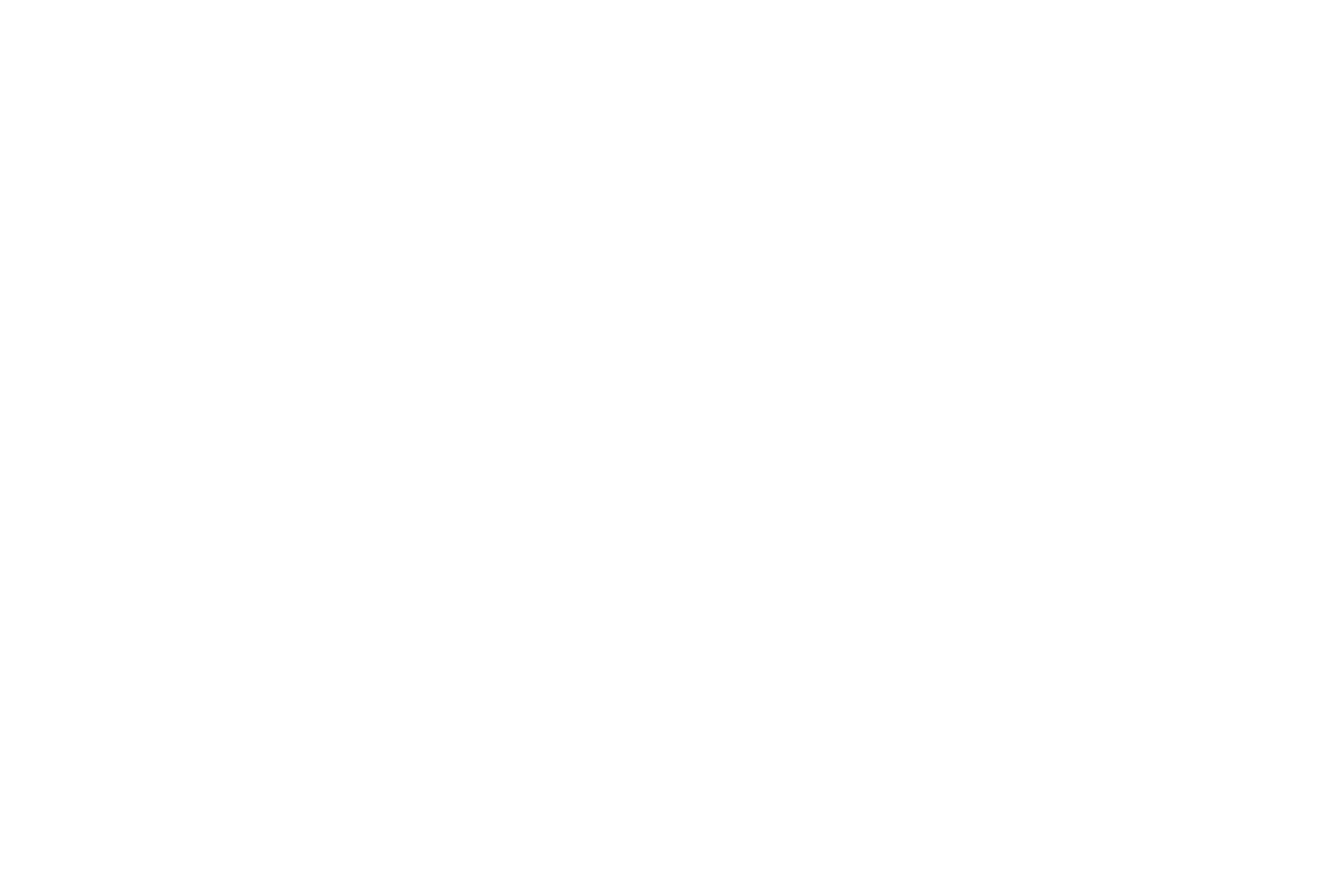
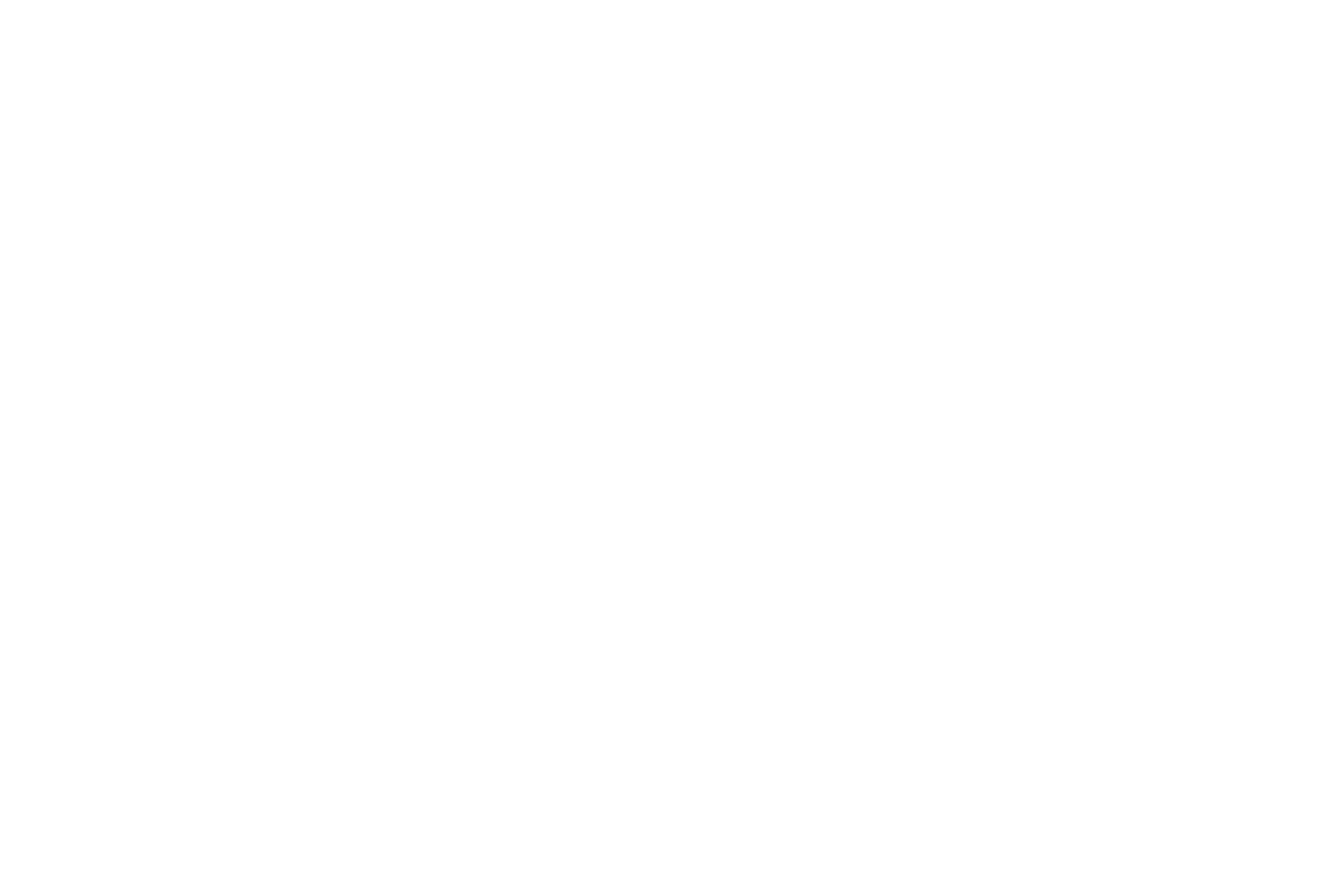
Инсталляция в ГРАУНД Солянке
МС: Ты ведь не только художник, но еще и писатель. Эти твои архивы, соединения слайдов каким-то образом в тексты у тебя преображались? Ты какие-то тексты извлекала из этих своих найденных сюжетов?
ВГ: Я думала об этом, но напрямую нет. Пока нет. Но идеи есть.
МС: Расскажи, как ты еще работаешь с найденными вещами? Это ведь не всегда у тебя слайды.
ВГ: Нет, далеко не всегда. Один из других моих проектов называется Paper Surgery. И здесь я использую рандомные страницы глянцевых журналов, сминаю их определенным образом и потом сканирую. Проект получил достаточно широкую известность — он был замечен фэшн-лейблом Comme des Garçons и они заказали мне рекламу. Эта рекламная кампания была даже отмечена фэшн-экспертами как культовая. А потом агентство Saatchi & Saatchi предложило мне, в той же технике, сделать кампанию к 25-летию организации «Репортеры без границ». И там мы уже делали и видео, как я это все сминаю, уже лица трех диктаторов. Кампания была номинирована на «Золотого льва» на Каннском фестивале дизайна.
МС: Так получается, что ты используешь один и тот же прием для совершенно разных месседжей. Как это работает тогда? То есть, прием это не построитель конкретной идеи, это формальный ход?
ВГ: Это для меня не так важно, скорее важно, как это в результате работает — из одинакового приема и другого содержания получается что-то совсем другое, третье. Замятки с красавицами дают один эффект, а замятки с чудовищами другой. Ну как есть стакан и в нем вода, а есть стакан и в нем коньяк. Форма стакана как прием не определяет того неожиданного третьего, что может случиться, если выпить стакан с водой или выпить стакан с коньяком. Причем вариаций в любом случае миллионы.
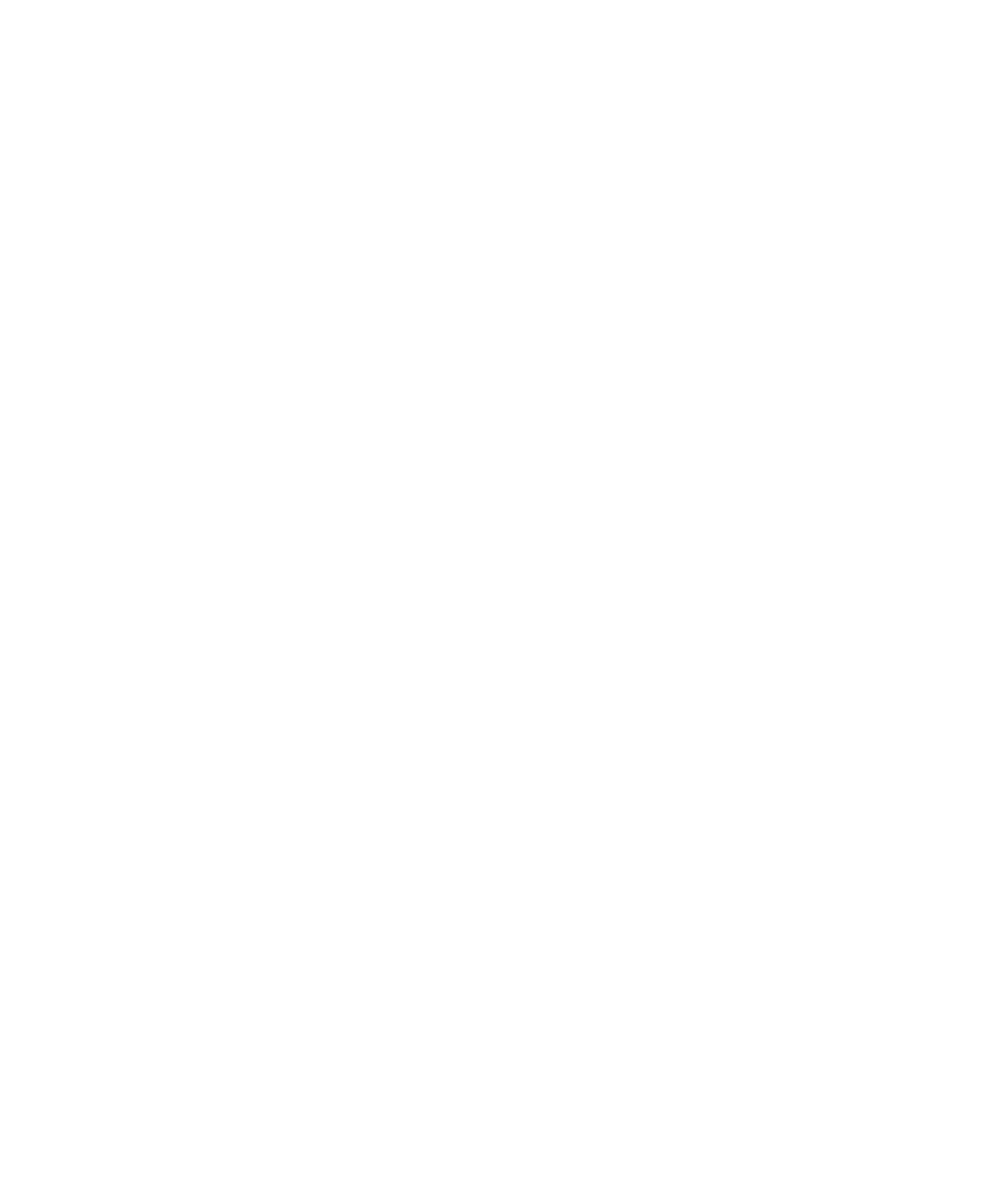

Принты из серии Paper Surgery
МС: То есть, работа не только между твоим материалом и тобой, но еще плюс между внешним контекстом, который меняет их еще сильнее.
ВГ: Ну конечно. Работа между материалом и мной заканчивается на полпути к результату. Когда-то и отдыхать надо. (смеется) Содержание, накладываясь на форму, дает что-то третье, от меня независимое, и дальше пусть все уже получается само и меня приятно удивляет.
Выставка «Пропейзаж» идет до 24 сентября включительно.
Маша Сумнина